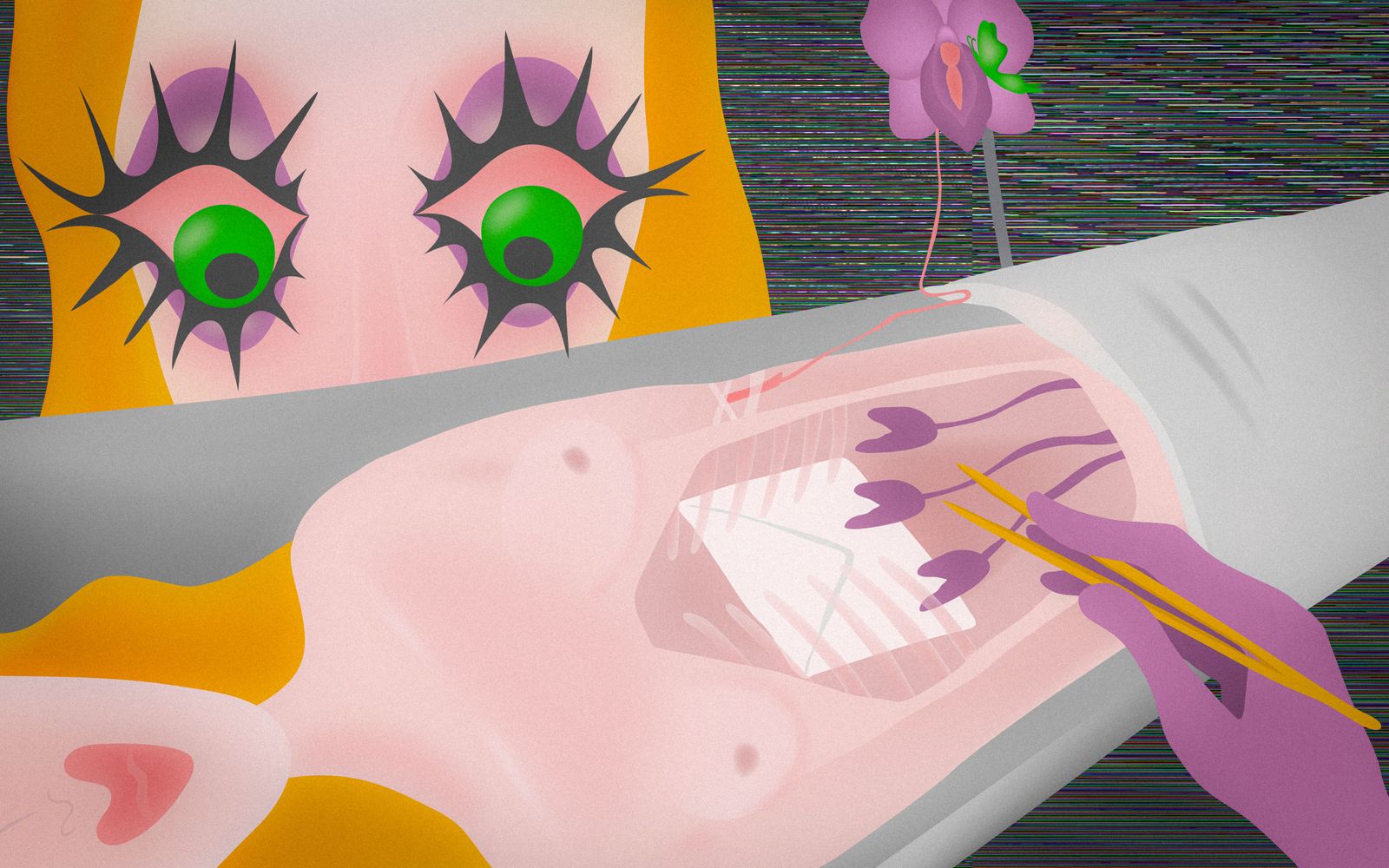Философ и психоаналитик Елена Костылева — одна из заметных представительниц современной фемпоэзии. Авторка трех сборников стихов «Легко досталось», «Лидия» и «День», многие годы она занималась политическим активизмом, была одной из участниц арт-группы «Война» и выпускающим редактором онлайн-издания «Ф-письмо», авторы которого проблематизируют и анализируют квир- и феминистскую логику письма.
Филолог и журналист Егор Антонов поговорил с поэтессой о формах насилия в реальности и дискурсе, о феминистской оптике, безусловной любви, возможности построить мир без доминации, а также о том, почему женщинам и мужчинам стоит объединиться, чтобы помыслить полностью другой мир.
— В одном из интервью вы говорите о «планомерном, каждодневном сопротивлении», когда единственное, что вам помогает — это «злость, ярость, отрицание». Чему вы сопротивляетесь и ради чего?
— У меня была мемная бабушка, она научила меня этому способу жить: когда ты делаешь, что хочешь. Она говорила: «Да пошли они нахер». Это очень простая вещь, отрицание. Негативность. Поэт должен отринуть большинство слов языка. Твое — там, где ты отбрасываешь чужое. Язык науки универсален — но это, как говорят лаканисты, язык большого Другого. На нем очень трудно что-то сказать, он как бы затертый. Мы все попадаем в одни и те же ситуации, и внутри самих событий жизни очень трудно найти смысл. Мои психоаналитические пациенты учатся говорить не от имени большого Другого. Хотя есть вещи, которые я разделяю с универсальным — я люблю, например… жизнь. Детей, мужчин, вкусную еду.
— Не без этого.
— Не без этого, да (смеется).
— Вы как-то сказали, что вам не нравится, что поэзия остается «нишевой историей»…
— Теперь уже нравится (смеется).
— Тут какая-то двойственность: поэзия может быть только трансгрессивной, но поэт хочет, чтобы эта трансгрессия стала нормой.
— Да нет. Вообще трансгрессия — это термин Батая, который связан с ритуалом, с тем, что сегодня мы посопротивлялись, а завтра мы выбираем нового царя. Как футбольный матч — сегодня все можно, но назавтра возвращается обычный мировой порядок: иерархия, запреты, в общем, некоторая скука. У меня есть про это стихотворение.
ебучий мировой порядок
послушай ты знаешь я очень устала не надо
не делай так больше и этого тоже не делай
из этого плена из этого ебаного как говорит Волчек кошмара ада
хуйни меня что ли туда где пусто и ветер
роди меня чем-нибудь не человечьим не плотным не женским
и подружек моих не забудь, слышишь?
Так что трансгрессия — это не то, что меня бы интересовало. Речь о собственной интерпретации происходящего. Есть концепт «личной жизни». Его придумали советские психологи, чтобы объяснить, чем человек живет на самом деле, пока он ходит на завод и в дом культуры. У него есть еще одна жизнь. И вот эта вторая жизнь, она непреходяща. Я живу на самом деле в ней, а не в той, которая на «Госуслугах».
— Но считаете ли вы, что занимаетесь политикой?
— Да, я, конечно, так считаю. В какой-то момент я обнаружила, что события моей абсолютно личной, закрытой от всех жизни имеют политическое измерение. Это касается мирового порядка, который никогда меня не устраивал. Мы называем его гетеропатриархатным капитализмом.
— Расскажите подробнее.
— Феминистская теоретикесса Гейл Рубин называла это «системой пол-гендер». Власти слишком много. У людей должно быть больше свободы. Еще это называют микрополитиками. Это довольно важно сейчас. Потому что выясняется, что политика — это все. Даже то, что ты покупаешь в супермаркете. Покупаешь ли ты мясо с фабрик, этих концлагерей для животных? И все, что касается женского тела, это тоже политический вопрос.
— То есть нужно нивелировать саму структуру власти?
— Да, она далеко не всегда нужна, ей все время злоупотребляют.
— Существуют ли где-нибудь общества, близкие к тому, о чем вы говорите?
— Нет. У меня даже дети спрашивали недавно: «Мама, а есть какая-нибудь свободная страна?». Я подумала, говорю: «Наверное, Антарктида. Но там одни пингвины».
— А вы можете представить, что ваши тексты станут максимально мейнстримными?
— Поэзия — это когда ты свое частное пытаешься универсализировать. Если посмотреть на постсоветскую поэзию, то чаще всего мы встретим мужчину, который страдает, любит выпивать… (смеется). Борис Рыжий, Гандлевский, Кенжеев, Кибиров — мы им сочувствуем, потому что понимаем их культурный код: мужчине плохо, его бросила женщина… потому что он выпивал много (смеется). Понимаете, да? Вот это универсальным становится. Почему? А если завтра мы откажемся от алкоголя — эта поэзия окажется какой-то неинтересной, по сути, вещью…
Знаете, был такой феномен: КСП. Я подругам ставлю Веронику Долину, Веру Матвееву, Новеллу Матвееву, эта лирика отражает их личную жизнь, которая как бы… чуть-чуть другая. Эта жизнь, вторая жизнь — это какие-то чувственные, любовные вещи… Короче, я считаю, что я и есть мейнстрим.
— Это и можно назвать политикой — когда личное становится общезначимым.
— Кто назначает, что является общезначимым?
— Может, рынок назначает?
— Умоляю вас! Моя новая книга «Cosmopolitan» вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», в серии «Новая поэзия». За год роялти — пять тысяч рублей. Поэзия и рынок — две вещи несовместные.
— Сегодня все только и говорят о телесности, о теле...
— Да, это сейчас мейнстрим, но это не было им двадцать лет назад, когда я писала свои первые книги. На меня смотрели как на сумасшедшую. Критики писали, что поэтесса хорошая, но почему-то пишет что-то эротическое, «нам это, конечно, не понятно». Для меня же этот внешний взгляд на мою поэзию был абсолютно диким, я писала о реальности своего сердца, — и вдруг оказывается, что это якобы эротика. Я была, конечно, в шоке. Потом я поняла, что культура, вытесняющая женское, чувственное, и должна реагировать на это как на чуждое…
— Возьмем автофикшн. Авторы этого жанра изображают, как правило, аутентичный опыт и пишут из точки уязвимости, как говорила мне в интервью Алиса Осипян. Но ведь они отдают себе отчет в том, что эта автофикциональная правда сегодня востребована.
— Вы спрашиваете, не подчиняемся ли мы все какому-то влиянию? И почему вдруг стало конвенциональным писать именно о телесности?
Телесность — это еще одна область, которую современная русскоязычная поэзия только недавно решилась в себя включить. Мы это видели ярче всего на кейсе со стихотворением Галины Рымбу «Моя вагина», которое явилось для большинства поэтов и критиков неожиданностью. Ее упрекали в том, что это медицинский термин, ему в поэзии не место. Но мы же можем спросить: а почему про водку писать можно? Про то, как я замерзаю на дальней станции электрички, потому что я перепил? Это такое же медицинское (смеется), простите меня, явление, токсикологическое. Почему мы это включаем в мейнстрим, а вагину нет?
Да, люди выяснили, что телесное, сексуальное, важно. Ну и слава богу, что они это выяснили.
Для меня это звучало просто: что мне теперь делать, если все теперь пишут так, как я писала двадцать лет назад (смеется)? Приходится искать новый способ разделить свой… мир. Как говорил Аркадий Драгомощенко, стихотворение должно быть обо всем. Все ли мы сказали? Вроде бы мы сказали ну просто все, вывернули себя наизнанку. Но на самом деле — нет. Потому что были недостаточно честны. Вот ответ на вашу претензию, совершенно справедливую.
— Это не претензия…
— Нет, это претензия: почему литературный процесс сейчас весь такой…
— Мне интересно, как сами авторы рефлексируют эту проблему.
— И поэтому вы пришли ко мне (смеется). Интересно.
— Я пришел к вам, да. Из такого… личного интереса.
— Но я не пишу автофикшн, вы зря ко мне с этими вопросами-то пришли.
— Мне кажется, что любое фем-письмо — это автофикциональная литература.
— Нет.
— Письмо «от тела» не может не быть автофикциональным. Вот Лимонов и Буковски — это автофикшн? Думаю, нет.
— Почему? Потому что они мужчины? (Смеется)
— В «Удовольствии от текста» Барт пишет: «Мое тело начинает следовать своим собственным мыслям; ведь у моего тела отнюдь не те же самые мысли, что и у меня», то есть…
— …Тело — это другой.
— Да, тело — это всегда тело другого. В письме «от тела» происходит поиск себя, поиск «тела». Писать — значит всегда писать о другом. Это метафизический поиск другого. Что для поэта важнее: всегда говорить о себе как о другом, или говорить о том, кто он есть?
— Барт… А вот Платон приводит диалог Парменида и молодого Сократа. Есть ли идеи у всякого мусора — у ногтей, волос и всякой дряни? Сократ говорит: «Нет, конечно, это вещи, у которых нет идеи». Парменид ему отвечает: «Ты еще очень молод, Сократ…» (смеется). На самом деле идеи у этого есть. Но это иное.
Я пишу о себе, но я пишу об инаковом, о том, что не вмещается в бинарные оппозиции, о том, для чего не было идеи, пока я не зафиксировала что-то в стихотворении, что является для меня самой новым.
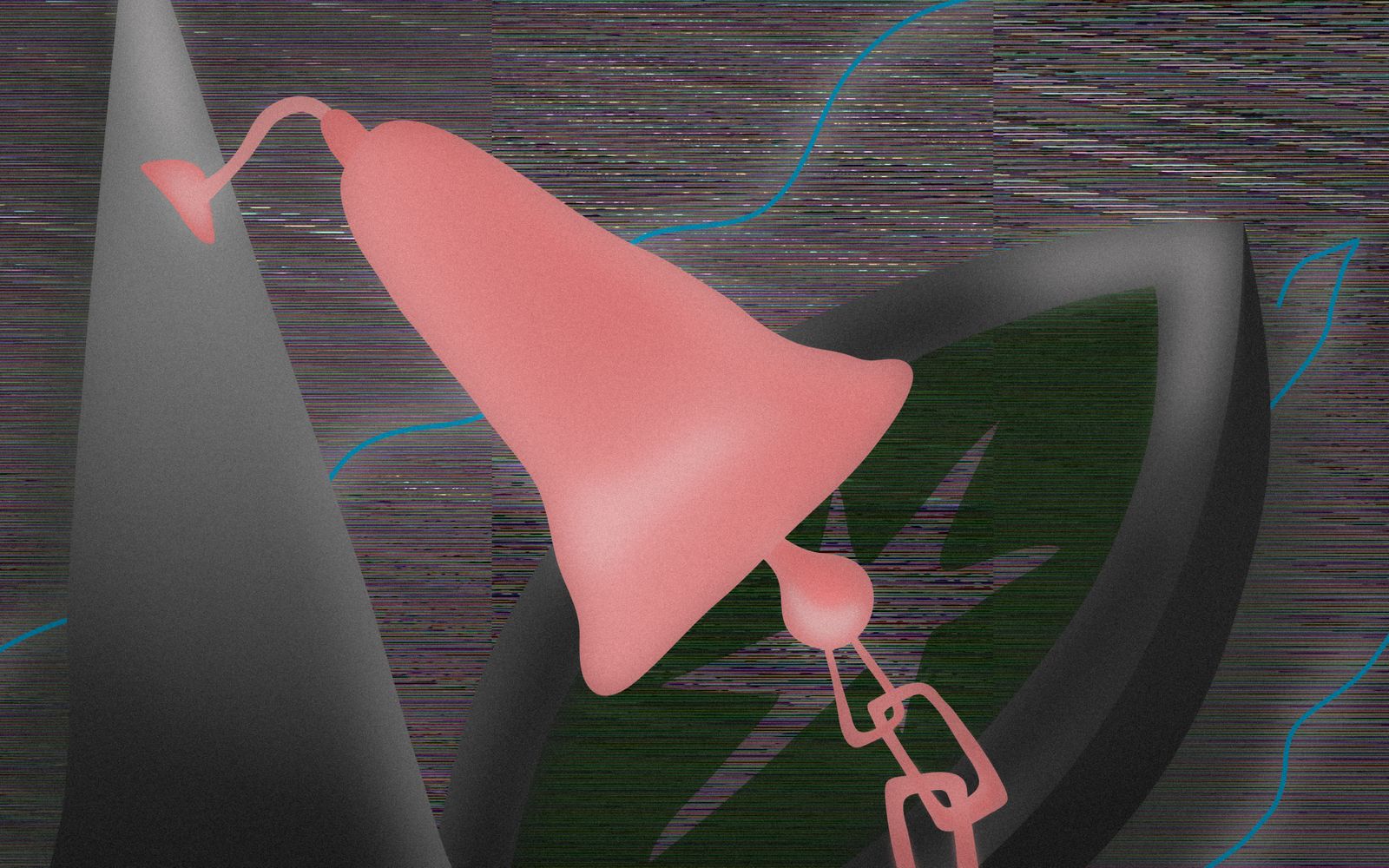
— Бодрийяр, описывая систему моды, говорил, что нам нет дела до сути вещей, нам важно постоянно актуализировать различие. Как этот принцип сегодня работает в литературе?
— Мы живем в эпоху различий. Это по-разному концептуализируется. Мы видим капитализм, который пытается все различия апроприировать, навязать им идентичности, оформить им соответствующие банковские карты. Я не думаю, что здесь нужно занимать сторону: это выбор, скажем так, навязанный. Мы должны совершить какой-то истинный выбор.
Тело и душа — это противоположности, которые ничего не значат. У Леви-Стросса есть такая история: пока испанцы спорили, есть ли у индейцев душа, индейцы топили завоевателей в воде, чтобы узнать: а есть ли у них тело? У человека есть и душа, и тело. Когда поэт пишет о телесности, он не пишет о теле, он пишет о душе. И вагина — это тоже некоторое… измерение женской души. Общественность оказалась к этому не готова.
— Эти новые измерения возникают в процессе письма как эффект поэзии?
— Мне кажется, в процессе жизни они возникают. В уязвимости всех полов, людей перед государством, смертности. И еще у нас есть влечения, как нам объяснил Фрейд, это силы души, которые нами движут. Я занимаюсь психоаналитической теорией — как практик и как философ, и вижу, что душа как-то устроена. Это уже не та душа, которую мы знали в теологии. Но она все еще бессмертна (смеется).
— А вы в своей повседневности оперируете такими понятиями? То есть… вы верующий человек?
— Это слишком интимный вопрос. Про вагину — пожалуйста, можете спрашивать, я вам все расскажу (смеется). А вот об этом я бы не хотела в интервью говорить.
— А если вот не для интервью, а как человек — человеку.
— Как человек человеку, я вам скажу, что для человека Нового времени, который живет после Декарта, Канта и Ницше, естественной религией является атеизм, наука и кантовский пустой моральный закон. Для Декарта Бог лишь поверяет cogito, удостоверяет, что я не обманываюсь. Я — атеистка, в моей семье по материнской линии четыре поколения атеисток. Я научилась обходиться без религии. Но это не значит, что я обхожусь без духовного измерения, или что я не подчиняюсь своим же законам. Вот такой… анархистский Бог у меня.
— Анархистский Бог, который не вмещается в рамки конфессий.
— Не то что «не вмещается»… Он не больше и не меньше, это все тот же Бог. В какой-то момент понимаешь, что Бог — это то, в чем ты вырос. Но при этом я не хотела бы это институционализировать. Я также не готова заявить, что я православная, это было бы ту мач.
— В другом интервью вы говорили, что продолжаете верить в существование силы, способной изменить мир.
— Да. Это и есть моя вера.
— Это связано с поэзией?
— Ну, поэзия все-таки не ставит перед собой такой цели. Мне трудно судить, насколько она меняет мир. А вот социальные, личные практики, наши убеждения, взаимодействия с другими — меняют. В целом я прогрессистка. Мы видим прогресс в правах женщин, отношение к детству изменилось очень сильно. Избирательное право женщины получили с Революцией. Ну… понятно, что важным является право на аборты, хотя лично я не… Короче, я не считаю, что аборт — это что-то хорошее, но такое право у женщины должно быть. Для женщины сексуальная жизнь и жизнь в браке имеет иные последствия, чем для мужчины. Цена решений разная. И чтобы хотя бы чуть-чуть скомпенсировать это, есть право на аборт.
— Аборты в России не запретили?
— Государство сейчас пытается эту сферу регулировать, но базово все пока что остается как было. То, что женщина должна полностью подчиниться своей женской доле, не является мейнстримной точкой зрения в российском обществе, — все-таки это общество с опытом революции, с образованием для женщин, причем уже больше ста лет… То есть это было очень прогрессивное общество. Мне кажется, нельзя обнулять эти достижения. И это будет трудно сделать, потому что женщины здесь привыкли распоряжаться своей судьбой. Я думаю, что даже в очень развитых странах у женщин нет такой свободы, к которой мы привыкли в России.
— Как думаете, почему?
— Ну потому что ты встаешь — допустим, в Австрии, — в пять утра, готовишь мужу завтрак, в три часа дня он приходит с работы, обед. Может, вы сходите в оперу иногда. Но в целом вот эта капиталистическая культура, она предполагает, что женщина — это придаток мужчины. Это вечный спор марксизма и феминизма о том, что важнее — достичь равенства, а потом решать женский вопрос, или наоборот? Я тут стою на позициях феминизма, мне кажется, что микрополитики, — вот эти личные вещи, — влияют на общество. Без решения вопроса женского угнетения мы не придем к коммунизму (смеется).
— Но нужно ли?
— Строить коммунизм? Я, честно говоря… думаю, что все сложнее (смеется).
— Но если посмотреть глобально… Вот не было у человечества антибиотиков, и люди в Первой мировой войне вагонами умирали. В этом есть прогресс. Проблема в том, что люди не перестали устраивать войны. Вы верите в мир без насилия? Я — нет.
— Ну, это можно еще обсудить в рамке диалога Фрейда с Эйнштейном о том, как прекратить войну. Очень многое зависит от того, как мы видим себя самих. Вот вы говорите, что люди не могут перестать друг друга насиловать. А вы насиловали кого-нибудь?
— Допустим, я нахожусь в таких обстоятельствах, когда мне это не нужно.
— Ситуация, когда прям нужно кого-то насиловать, это как бы… непонятно, о чем вы вообще говорите.
— Я говорю о том, что мне не нужно защищать ни себя, ни свою семью. Насилие в современном обществе, как правило, не физическое. За физическое сажают в тюрьму. И тем не менее общество основано на постоянной его циркуляции.
— Может быть, это гендерное, может, феминистское, но я не согласна с тем, что общество есть циркуляция насилия. Параллельно с этим есть постоянные труд и забота, взращивание жизни, творческих способностей в детях, друг в друге. Насилие в обществе есть, но я не согласна, что это основа общества.
— Циркуляция насилия видна в языке. Любое высказывание так или иначе заканчивается насилием. Барт говорил, что если вы подвергаете исключению расистов, то вы становитесь расистом антирасизма. Или взять Сорокина: в его текстах видно, что сопротивляться насилию можно только через насилие, и все так или иначе заканчивается каким-то… пиздецом.
— Сорокина люблю, но это постмодернизм: такой извод философской мысли, где всякая истина карнавализируется. Это иронический подход — все обесценивается, превращается в игру. Плюс здесь в том, что мы перестаем относиться серьезно к истине и начинаем изобретать ее. Но это всего лишь одно из философских течений, просто мы к нему привыкли.
Для феминизма вопрос насилия очень сложный. Я не пытаюсь говорить за всех феминисток. Но я думаю, что феминизм отличается от других идеологий именно тем, что постулирует возможность мира без насилия.
Если мы, феминистки, скажем, что насилие неизбежно, мы включимся в этот круг насилия. Может, у нас будет матриархат, но он будет точно таким же, каким был патриархат. Поэтому я считаю, что настаивать на возможности мира без насилия необходимо.
Многие своей жизнью утверждают возможность такого мира. Можно жить без кровной мести.
— Но, проживая жизнь без насилия, мы пользуемся результатами насилия, которое происходит не на наших глазах. Мы едим мясо, но не можем смотреть на смерть животных. Человек на скотобойне делает за мясоедов грязную работу.
— Понять, как мы относимся к животным, — это означает понять, как мы относимся к самим себе. Есть ли мясо? Варварство, которое происходит, сейчас становится видимым понемногу, и, конечно, это необходимо прекращать. Это как с рабовладением: да, и сейчас в мире двадцать миллионов рабов, но все-таки рабство запрещено, цивилизационно мы от него отошли. Думаю, с животными должно произойти то же самое. К сожалению, ничего более обнадеживающего я сказать не могу.
Лозунгов я стараюсь не произносить, потому что… это как бы все «зиги». Можно сказать, что все мясоеды и мужики — козлы, но я не хочу этого делать, потому что это не решает никакой проблемы.
— Я думаю, что ничего не решает никакой проблемы.
— А, то есть вы… неверующий человек (смеется).
— Верующий. Я верю, что все останется, как прежде.
— Но ведь это же не так. Объективно.
— Вы знаете, я думаю, что можно… выйти из одной серии структуры в другую: принц может надеть корону, как это описывает Делёз в статье «По каким критериям узнают структурализм?» Но сама структура сохраняется. Да, я работаю официантом в ресторане, у меня ничего нет. А где-то сидит высокопоставленный взяточник. Структура всегда предполагает наличие нас обоих. Мне кажется, что дело в том, как устроено наше мышление, наш язык.
— Я тут пишу диссертацию, и она посвящена, в принципе, этому. Когда я начала учиться, я обратила внимание на одно понятие у Фрейда, первосцена, в «Случае Человека-Волка» — его русского пациента Сергея Панкеева. Первосцена заключается в насилии, в травме: мальчик увидел соитие родителей, где отец стоял вертикально, а мать была в полусогнутом, животном положении. Он боялся отца и боялся волка, для него это было одно существо. Но Фрейд объясняет, что такое понимание полового акта является искажением.
Вырастая, мы понимаем, что это любовный акт, а не акт насилия. Фрейд пишет, что это просто недопонятая природа человеческих отношений. Это то, что нам всем, может быть, следует преодолеть.
Когда Хайдеггеру в гитлеровской Германии предложили возглавить университет, он выступил с инаугурационной речью о том, что философия должна вернуть себе гегемонию над другими науками. Лаку-Лабарт пишет, что здесь у Хайдеггера сработало что-то бессознательное, какое-то жестовое — и жестокое — понимание природы мира в целом. Будто философия обязательно должна встать в такую позу, чтобы доминировать. Лаку-Лабарт считает, что здесь Хайдеггер обманывается. А почему? А потому что не факт, что так устроен мир. Это одна из иллюзий, которую мы… поддерживаем. Это, по сути, детское, животное состояние, в котором один доминирует над другим. Способ объяснения мира через неизбежное насилие лично мне кажется инфантильным. Ну, скажем, у меня дочери, и я могу, конечно, поверить, что только насилие определяет картину мира, что либо я «победю», либо они; но это не имеет к реальности моего существования ну никакого отношения, понимаете?
— Да, вы можете прожить жизнь, не столкнувшись с насилием. Но так или иначе оно происходит.
— Но что, если посмотреть на это как на ошибку маскулинности? Что, если предложить какое-то видение, в котором это насилие уже будет снято? Что, если посмотреть на весь процесс со стороны и отнестись к этому… как к какой-то незрелости человечества. Что, если кроме насилия существуют другие решения?
— Вот какие?
— Ну, если бы мужчины больше участвовали в жизни своих детей, им было бы труднее убивать кого-то. У них был бы опыт любви, заботы. Это, кстати, не противоречит религиозным убеждениям.
— Так, мне кажется, в этом и корень. Гораздо проще пережить смерть другого человека, если веришь в бессмертную душу. Шестов писал о Толстом, что он мог в своих текстах похоронить кого угодно… Андрея Болконского вон за милую душу упокоили…
— Да, религия утешает.
— Дмитрий Бреслер в предисловии к вашей книге пишет, что в ваших текстах насилие не представляется тотальным, оно «контейнируется, обретает границы». Это почему-то напомнило мне ваш текст:
Что-то было между словами, куда-то делось.
Дорогой, ты не видел? куда-то делось...
У меня вопрос: действительно ли между словами что-то есть? Мне кажется, между словами нет ничего, кроме слов. И поэтому максимум, что мы можем — это иронизировать, обыгрывать, пародировать дискурсы, «контейнировать», как пишет Бреслер, разные формы насилия.
— Соглашаясь с некоторыми максимами достаточно бездумно, мы не продвинемся. Вот я только что рассказывала, что мир без насилия возможен, а вы снова утверждаете, что невозможен мир без насилия (смеется)… Так мы из этой ситуации не выйдем.
— (смеется) Я хочу практически понять, как он возможен без насилия.
— Я думаю, здесь ошибка в переносе реального насилия на насилие в дискурсе. Всякий текст есть насилие над реальностью. Человек бессознательно насильственен — это бесспорно, и психоанализ нам это открыл. Но есть переход, который многие сейчас осознают как возможность не подчиняться бессознательным влечениям, а хотя бы спрашивать себя, почему я этого хочу, хочу ли я… вас изнасиловать? Это вопрос договоренности, я бы так сказала (смеется).
Вообще, социальные и половые отношения очень сильно усложнены. У матерей все проще — ты любишь детей независимо от пола и количества.
Есть безусловная любовь, которая вполне практически реализуема. И вот ее бы транспонировать на общество, относиться друг к другу как к уязвимым детям. История о том, «кто кого победит», — она и приводит к насилию.
Насилие — это то, от чего мы должны удерживаться. Я не говорю, что его нет. Да, можно увидеть мир как сплошное насилие. Но можно также увидеть мир как сплошные попытки удерживаться от насилия — и это тоже будет правдой...
— С этим я согласен.
— Ребенка победить легко, в этом нет никакого смысла. Конечно, мать доминирует, но ее задача, чтобы ребенок вырос, а не остался при ней рабом. Это прямо противоположная власти штука, и она из культуры изъята. А неплохо было бы ее туда включить. Может быть, это утопично. Но что такое утопия, и что такое «здравый смысл»? В мире происходит сплошной кошмар, и это считается рациональным, а ненасильственное видение мира считается утопичным. Почему?
— Чаще люди живут в каком-то промежутке — никого не убивают, не насилуют, но и обратную картину мира не транслируют… Большинство совершают хорошие поступки, когда это не требует усилий.
— Получается, что любовь — это и есть негативность. Чтобы проявить ее по-настоящему, необходимо насильственные установления этого мира как-то… отрицать.
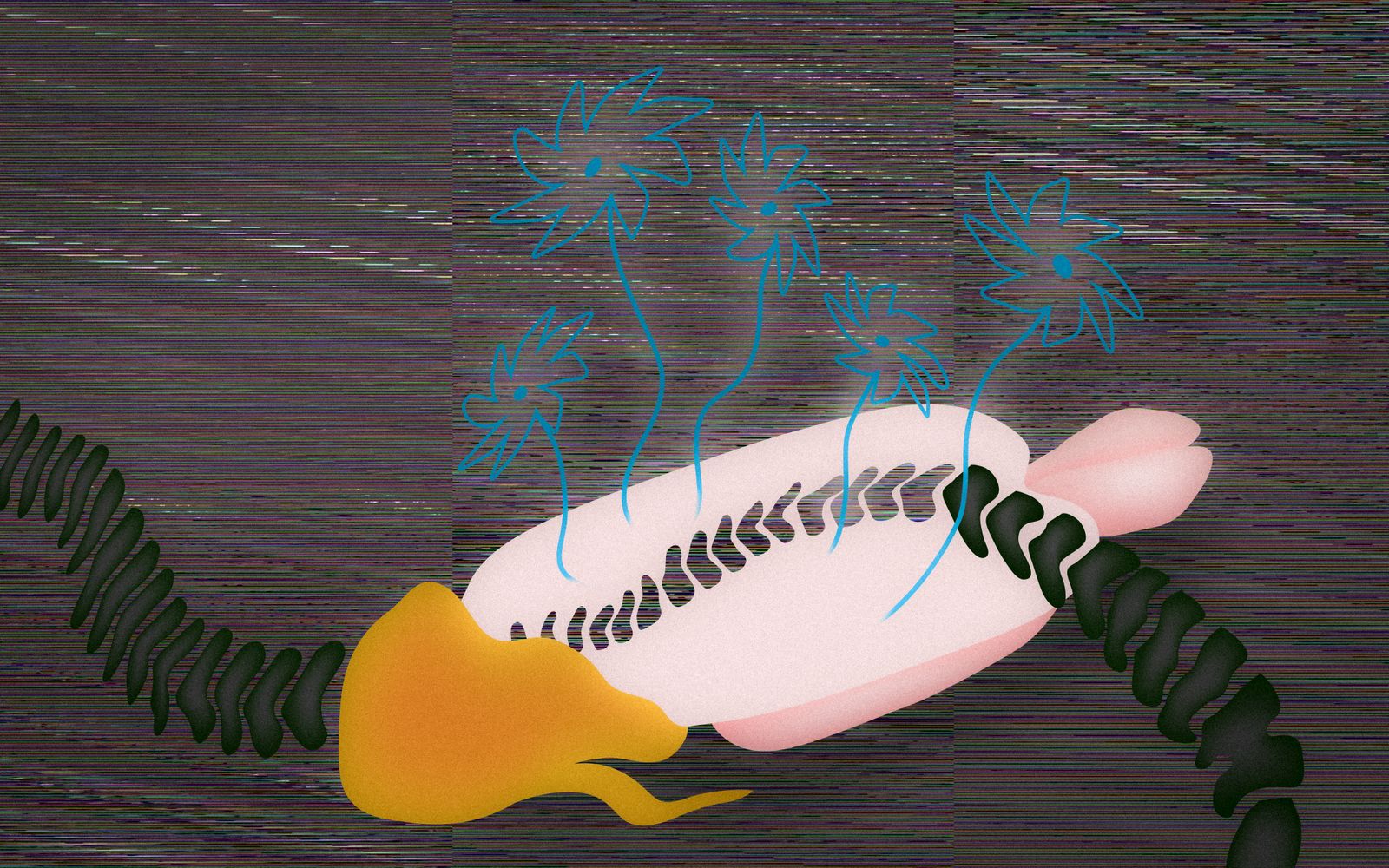
— Мне хочется услышать мысли, которые… вы думаете каждый день. Меня не интересует позиция, которую вы готовы представить на публику, я хочу, чтобы вы рассказали о себе.
— О чем я думаю… Была такая итальянская феминистка Карла Лонци, она написала текст «Давайте плюнем на Гегеля», — про Господина и Раба… Она говорит, что нам, женщинам, это вообще не интересно. По Лонци, Гегель фактически приписывает женщине природное рабство: мужчина может из роли Раба выйти, чтобы стать Господином, а женщина подчиняется божественному закону, не человеческому, не закону социума, не закону царя…
— Не закону сильного.
— Да, получается так. При этом у Гегеля ведь именно Раб на самом деле имеет дело с реальностью, с вещью. Господин имеет дело только со своими фантазиями, всемогуществом, у него нет доступа к миру. Женщина ответственна за закон семьи, более древний, чем закон социума. Гегель говорит об Антигоне, о том, как она хоронит брата вопреки запрету царя… потому что это ее брат. Лонци же говорит о том, что «человеческий закон» у Гегеля — это закон, навязанный нам Отцом. Женщина у нее должна объединиться с неким молодым мужчиной или сыном, который, вырастая, поступает в распоряжение социума. Его забирают на войну — и вот тут, пишет Лонци, он становится анархистом. Ее проект в том, чтобы женщины и молодые мужчины объединились против Отца, против воли Господина, для нового мира. При этом она просит мужчин просто не мешать (смеется). Для нее важен такой этап, как декультуризация. Что это значит — отмена культуры? Это новое начало, возвращение к истоку. Ее пример декультуризации — материнство, когда женщина выпадает из общества, а потом смотрит на это общество и понимает, что оно абсолютно не приспособлено для ее целей.
Радикальность феминизма состоит как раз в том, чтобы задавать вопросы ко всей цивилизации. Подходит ли она нам?
Феминизм на уровне теоретическом и практическом мыслит полностью другой мир. Который этому миру кажется утопичным. Потому что… первосцена: будто бы все так устроено, что даже секс предстает как насилие, хотя он таковым чаще всего не является. Так что мы смотрим на все эти войны как на войны мужчин с мужчинами. Тот, кто говорит «да» оружию как способу решать конфликты, погружается вглубь варварства. Но если еще глубже смотреть, сексуальность является ключом к культуре. Потому, что она содержит в себе компонент насилия, влечений. Культура возникает как репрессированная сексуальность: мы не можем прямо удовлетворить свои желания, мы вынуждены вести беседы вместо того, чтобы получить прямой доступ к наслаждению.
— Лакан как-то раз сказал, обращаясь к женщинам в аудитории, что он мог бы заняться с ними сексом, но дело в том, что от своей деятельности он получает гораздо большее удовлетворение.
— Только на его семинарах были феминистки, которые не захотели бы в его фантазии участвовать (смеется). Что я хочу сказать... Культура, которую мы знаем сейчас, это религиозная отстройка от сексуальности: «Все телесное — низко, все духовное — это очень высоко». Но есть и другой путь. Возможна культура как амбивалентный ряд явлений, допускающий сексуальность и телесность, культура, которая признает влечения как часть самой себя. Если посмотреть под таким углом на литературу, то и Толстой, и Достоевский занимаются ровно этим. Когда Толстой выводит на сцену Каренину с ее какими-то мелкими, пошлыми, семейно-адюльтерными проблемами, он включает какую-то часть жизни женщин в большую культуру. То же самое делает Достоевский.
Короче, у меня такой тезис, что все великие писатели — профеминисты. Потому что они пытаются обратить внимание на страдания. Гуманистическое — это и есть как бы женское.
— Сиксу в «Хохоте Медузы» пишет, что женское письмо это и есть поэтическое письмо вообще. Потому что сама поэзия как письмо «от тела» (а другой поэзии, согласно Сиксу, не может быть) по самой своей сути является чем-то женским.
— Согласна. Мы знаем только «женскую сексуальность» — но тело есть у всех. Мы не говорим о мужской сексуальности — общепринятая точка зрения на культуру ее полностью исключает. Но есть своя цена у того, что мы утверждаем. Поэтому я пытаюсь максимально обобщенно об этом сказать. Если покопать — вы же хотите еще глубже, как я понимаю, в меня залезть сейчас…
— Да, мне очень интересно.
— О чем я думаю? Чаще всего я думаю одновременно об одиночестве, о том, что я со всеми этими взглядами живу в реальном мире и я вижу, что это все не работает. Что работает как раз… патриархат. Он чудовищен, но там у женщины есть какие-то права, какое-то уважение. В постсоветском обществе мы уже не понимаем, где ошибка, но она точно была. В этом секулярном «непатриархальном» циничном, пессимистичном мире женщина больше ничем не защищена — ни узами брака, ни властью отца. Она уже не обладает никакой ценностью. Все эти дети, вся эта хрень — это все ее проблемы. В общем, одиночество, о котором я говорю — оно не только поэтическое, оно такое… жизненное. Это труд воспроизводства, который не считается трудом. Уже больше ста лет прошло, и пора бы уже левым сообразить, что это общая проблема. Но до сих пор это вообще не является политической мыслью. Политические мыслители думают, что нужно создавать партию, договариваться с другими властными мужчинами… Я еще раз говорю: нас это не интересует. Нам что надо? Чтобы настал другой мир.
— Новый мир без проблем?
— Если честно, там есть проблема: женщина требует безопасности для себя и детей. Но безопасность является, по сути, очень правой концепцией. Это значит, что везде должны быть видеокамеры и полиция. На мой взгляд, это плохая идея. Но что-то я не слышу со стороны мужчин других идей о том, как сделать мир безопасным и полным любви, потому что они просто в это не верят. Они верят только в полицейского с резиновой палкой. Они не верят в запрет оружия — в полный. Но верят в то, что то, что происходит, вообще может происходить. А с нашей точки зрения это немыслимо. Ты выращиваешь ребенка, а потом что, его убивают? Блядь, it doesn’t make any sense.
Феминистская мысль, — она исходит из другого тела, другого целеполагания. Деструкция здесь — часть становления, как писала Шпильрейн. Фрейд взял у нее термин «влечение к смерти» и совершенно по-другому понял. Потому что у него не было женского тела, он не понимал, что то насилие, о котором мы с вами говорим, деструкция, негативность, — это часть или необходимое условие становления.
Насилие — это диалектическая вещь, а не вещь сама по себе. Это связано с тем, что женщина, рожая, подвергает себя риску не ради того, чтобы победить кого-то, а чтобы дать жизнь.
Реально, это немножко другая онтология. Но я отвлеклась...
Одиночество. Существует всегда отчуждение между женщиной и мужчиной. Откуда оно берется, я могу как философ рассказать. Но в жизни я не понимаю, почему оно так… постоянно. Почему я должна это уважать, если мне это не нравится? И еще я думаю о некой оргии — о том возможном мире, который был бы, если бы мужчины нашли в себе силы отказаться от первосцены, от понимания мироздания как садистического, от попытки установить свой закон над природным законом… Ладно, это уже де Сад…
— У Сада как раз все хорошо, там все кайфуют.
— У Сада все хорошо, он перевернул Канта, отменил государство, семью, разрешил насилие всех над всеми. Но ни вы, ни я не согласились бы…
— Я бы не рискнул.
— …на такую оргию (смеется). Оргия, которую я имею в виду, — это скорее что-то вроде джем-сессии. Заходишь в любое из помещений — там оргия. Хочешь — участвуешь, не хочешь — идешь макароны варить. С детьми тоже хотелось бы решить вопрос — в том смысле, чтобы о них заботились все. Им, безусловно, нужна сексуальная неприкосновенность: это сохраняет их душу до того момента, пока они не начинают осознанно делать выборы. Но что касается взрослых, то я не понимаю, что мешает нам дарить друг другу любовь? И почему мы все подчиняемся какому-то цезарю.
— Страх мешает.
— Недавно я написала стихотворение про то, что я ебусь идеологически (смеется). Даже политически. Потому что там есть вот это разделение на друга и врага, это шмиттовская штука, которая определяет возможность политики. Для политических теоретиков ее нет, если нет врага. Для левых, для правых, для всех… мужчин (смеется). Но это же чушь.
А насчет страха… Я как антрополог понимаю исток страха приблизиться к женскому, сексуальному объекту. Он базовый — как страх убийства, каннибализма, заражения. Но дело в том, что мы должны были уже из этого выйти. Мы сейчас продолжаем жить под воздействием правил, которые устанавливались тридцать тысяч лет назад, и все это время не пересматривались.
— И в этом же ряду можно расположить…
— Нас с вами. А как нас не расположить в нем? (смеется).